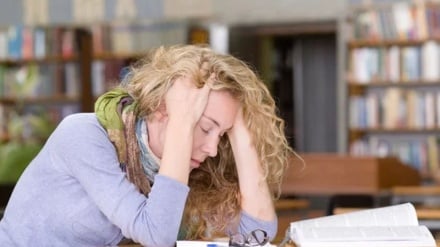Исследователям удалось имплантировать новую память в мозг зебровой амадины
Несовершеннолетние птицы узнают длину звуков в песне из ложного воспоминания, привнесенного посредством оптогенетики, а не из реальных взаимодействий с птицей-репетитором.
Эбби Олена на портале the-scientist.com пишет: Животные учатся подражая поведению, например, когда ребенок подражает голосу своей матери или молодой копирует брачную песню старшего репититора-самца, часто своего отца.
В этой связи американским ученым удалось внести информацию о песнях в мозг молодых зебровых амадин (Taeniopygia guttata). Для этого они с помощью оптогенетики активировали синапсы нейронов отделов, участвующих в производстве песен, тем самым показав их важную роль в первичном формировании репертуара. Птицы успешно научились петь, но элементы песен, выученных таким способом, отличались от классически формируемых при социальном или индивидуальном обучении, а их длительность повторяла используемые при стимуляции импульсы. Работа опубликована в журнале Science.
Главный способ коммуникации многих видов птиц — пение: с помощью него они привлекают потенциальных партнеров, тем самым обеспечивая успех полового отбора, отпугивают хищников, сообщают об опасности и просто общаются между собой (а иногда — и с представителями других видов). Основной механизм получения информации о правильном пении — социальное обучение: взрослые самцы (песни, в основном, нужны именно им) учат своих птенцов петь, а если точнее — птенцы запоминают песни, спетые родителем, а потом успешно имитируют их уже во взрослом возрасте.
За процесс производства песен отвечают два отдела головного мозга птиц: высший вокальный центр (часть гиперстриатума — птичьего аналога неокортекса) и нидопаллиум (аналог префронтальной коры). Нейроны нидопаллиума активируются в зависимости от начала или конца песенного слога, тем самым маркируя начало или конец элемента песни, а высший вокальный центр, будучи частью премоторной коры, обеспечивают моторный контроль частоты и длительности звука.
Разумеется, эти же участки принимают информацию из аудиторной коры и, по сути, должны участвовать в первичном обучении песням. Роль их — совместная или же индивидуальная — в этом процессе, однако, изучена плохо.
Разобраться в этом подробнее решили ученые из Юго-западного медицинского центра Техасского университета под руководством Тодда Робертса. Для своего эксперимента они выбрали зебровых амадин: так как эти птицы часто становятся участниками научных исследований, временные и пространственные характеристики их пения изучены достаточно хорошо.
Всего в исследовании поучаствовали 32 молодых птенца, которые еще не научились петь. Их разделили на три группы: 15 птиц обучались пению у взрослых амадин, 10 не учили петь совсем, а еще 7 птицам в аксоны нейронов нидопаллиума с помощью аденоассоциированного вируса ввели светочувствительные канал-родопсины. Эти опсины позволили ученым оптогенетически активировать синапсы (места контакта двух нейронов) между нидопаллиумом и высшим вокальным центром. Семь птенцов учили пению именно так — активируя нейроны без всякой слуховой или социальной стимуляции.
Эффективность обучения птиц оценили уже во взрослом возрасте. Песни амадин, которые учились у взрослых, состояли из трех-шести отдельных слогов, каждый длиной около 100 миллисекунд, а всего в репертуар входило около 70 уникальных по временным и пространственным характеристикам элементов. Песни изолированных птиц состояли из четырех-семи элементов, которые были значительно длиннее, а весь репертуар состоял из 61 элемента.
Первоначально Венчан Чжао, аспирант в лаборатории Робертса, намеревалась проверить, можно ли помешать нейронной активности, когда молодая амадина общалась с воспитателем, заблокировать способность птицы формировать память об обмене. Она использовала свет, чтобы манипулировать клетками с генетически сконструированной чувствительностью к освещению в мозговом контуре, ранее причастном к изучению песни у молодых птиц.
Чжао включила камеры, проливая свет на мозги птиц, когда они проводили время со своими воспитателями, и, как контрольный эксперимент, когда птицы были одни. Затем она заметила, что песни, разработанные так называемыми контрольными птицами, были необычны - отличались от песен птиц, которые никогда не встречали репетитора, но также в отличие от песен тех, кто взаимодействовал со взрослой птицей.
Как только Чжао и ее коллеги подобрали необычные песни, они решили «проверить, будет ли активность в этом кругу достаточной для имплантации воспоминаний», говорит Робертс.
Что касается птиц, которых учили петь с помощью оптогенетики, то их репертуар зависел от длины импульсов, которыми активировали терминалы аксонов. У птиц, которых учили с помощью импульсов длиной в 50 миллисекунд, длина отдельных элементов (всего в песни использовались от одного до трех слогов) также составляла около 50 миллисекунд, а при использовании импульсов длиной в 300 миллисекунд отдельные элементы также занимали до 300 миллисекунд, что значительно больше, чем у всех остальных амадин. При этом основные акустические характеристики песенных элементов (например, используемые для исполнения частоты) не отличались между группами, то есть не зависели от способа обучения. Первые изменения голоса начали появляться у всех птиц одновременно — через два-три дня после начала обучения, после чего, в течение месяца, песни приобрели нужную форму.
На основании этого ученые пришли к выводу, что стимуляция нейронов высшего вокального центра и нидопаллиума не просто заставляет птиц петь посредством моторного и сенсорного воздействия, а скорее формирует песни из их далее используемого репертуара. При этом работа этих участков, по-видимому, для запоминания песен оказалась ключевой. Четыре птенца, которых учили петь оптогенетической стимуляцией совместно с социальным взаимодействием со взрослыми птенцами, не смогли воспроизвести песни своих учителей: пространственные и временные характеристики песен совпадали только на 26 процентов, в то время как обычно ученики воспроизводят до 89 процентов характеристик своих учителей.
Наконец, ученые также решили проверить, будет ли активность изученных участков ключевой и далее, после окончания обучения. Для этого они повредили связи между нидопаллиумом и высшим вокальным центром до или после социального обучения птиц. Оказалось, что повреждение участков до начала обучения нарушает формирование репертуара: птицы воспроизводят только 37 процентов услышанных от учителя мотивов. В то же время повреждение, нанесенное после обучения, репертуара не меняет, и птицы эффективно повторяют до 86 процентов выученных характеристик.
Авторы работы пришли к выводу, что оптогенетическая стимуляция важных для обучения песням участков мозга амадин может эффективно заменить социальную и слуховую стимуляцию при обучении. С одной стороны, это показывает, что связь высшего вокального центра с нидопаллиумом в формировании репертуара играет ключевую роль. С другой стороны, воспоминания о песнях, по-видимому, после формирования хранятся уже в других отделах, так как повреждение пути от нидопаллиума к высшему вокальному центру после того, как все песни были выучены, никак на исполнение амадин не влияло.
"Чтобы учиться на наблюдениях, вы должны создать память о том, что кто-то делает что-то правильно, а затем использовать эту сенсорную информацию, чтобы направлять вашу двигательную систему, чтобы научиться выполнять поведение. Мы действительно не знаем, где и как формируются эти воспоминания", - говорит Дина Липкинд, нейробиолог из Йоркского колледжа, которая не участвовала в исследовании. Авторы "обратились к первому шагу процесса, который заключается в том, как вы формируете память, которая впоследствии будет направлять [вас] к выполнению этого поведения".
"Это первый раз, когда мы подтвердили области мозга, которые кодируют воспоминания о поведенческих целях. Это те воспоминания, которые направляют нас, когда мы хотим имитировать что-либо — от речи до обучения игре на фортепиано", — отмечает нейробиолог из Института мозга О'Доннелла Юго-Западного медицинского центра Техасского университета Тодд Робертс. — Полученные результаты озволили нам внедрить эти воспоминания в мозг птиц и контролировать процесс обучения их песням».
В то время как манипулирование нервных цепочек влияло на продолжительность звуков в песнях амадин, другие элементы певческого поведения - включая временную шкалу вокального развития, как часто птицы практиковались, и в каком социальном контексте они в конечном итоге использовали песни - были схожи с несовершеннолетними птицами, которые учились у взрослых репититоров.
Затем исследователи определили, что когда птицы получали световую стимуляцию в то же время, когда они взаимодействовали с репититором, их взрослые песни были больше похожи на песни птиц, которые получили только световую стимуляцию, что указывает на то, что оптогенетическая стимуляция может вытеснить репетиторство.
Когда команда повредила нервную схему перед тем, как молодые птицы встретили своих учителей, они не предпринимали попыток подражать взрослым ухаживающим песням. Но если подросткам была предоставлена возможность пообщаться с репетитором до того, как схема была повреждена, у них не было проблем с изучением песни. Это открытие указывает на существенную роль пути в формировании начальной памяти времени вокализаций, но не в сохранении его в долгосрочной перспективе, чтобы на него можно было ссылаться, чтобы руководить формированием песни.
"То, что мы смогли имплантировать, было информацией о продолжительности слогов, которые птицы хотят попытаться научить петь", - рассказал Робертс порталу The Scientist. Но есть еще много характеристик, которые птицы должны учитывать, когда они изучают песню, включая высоту звука и то, как правильно располагать слоги. Последующие шаги должны идентифицировать каналы, которые несут другие типы информации и исследовать механизмы для кодирования этих воспоминаний и где в мозгу они хранятся.
Сара Лондон, нейробиолог из Чикагского университета, который не принимала участия в исследовании, согласна с тем, что используемые здесь стратегии могут послужить образцом для разграничения, откуда берутся другие характеристики изученной песни. Но в целом, эта работа м певчими птицами связана с более широкой картиной нашего понимания обучения и памяти, говорит она.
Эта работа открывает новые направления исследований для выявления большего количества мозговых контуров, которые влияют на другие аспекты вокализации, такие как высота тона и порядок каждого звука.
Ученые надеются когда-нибудь использовать полученные знания, чтобы найти конкретные речевые гены, которые повреждены у пациентов с аутизмом или другими нарушениями развития центральной нервной системы.